Рубрику «Заметки» всецело доверили публицисту Антону Котеневу, эксперту Лаборатории журналистики Винзавода, который никогда не врет и смотрит в глаза любому зверю.
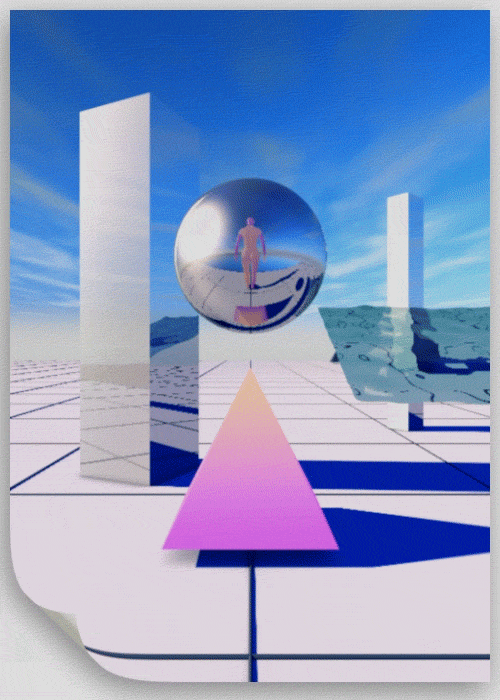
ЗАМЕТКИ
15.05.2020
15.05.2020
Унесенные ветром, угнетенные питбулем
Антон Котенев — об этике в искусстве.
Всегда нравилось это добродушно-примирительное, с барского плеча «Надо разделять автора и произведение, Полански — плохой, «Ребенок Розмари» — просто отличный!» Будь я Вуди Алленом, Романом Полански или Кевином Спейси, я бы просто запретил смотреть свои фильмы всякому, кто не считает меня хорошим. Сейчас как раз вступил в силу Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, который признает смежные права за актерами и прочими участниками съемочного процесса.
Дискуссии о гении и злодействе порядком раздражают. Угнетенные питбулем вгрызаются в штанину Гогена, Ильи Хржановского и той бабы, которая твердо решила, что больше никогда не будет голодать. Привилегированные пластаются перед гениями. Что они все вообще имеют в виду? Думаю, и первые, и вторые имеют в виду, что культура — это благо. Именно поэтому первым так важно убрать гада из библиотеки «Нетфликса», а вторым — встать грудью на защиту великого человека.
Дискуссии о гении и злодействе порядком раздражают. Угнетенные питбулем вгрызаются в штанину Гогена, Ильи Хржановского и той бабы, которая твердо решила, что больше никогда не будет голодать. Привилегированные пластаются перед гениями. Что они все вообще имеют в виду? Думаю, и первые, и вторые имеют в виду, что культура — это благо. Именно поэтому первым так важно убрать гада из библиотеки «Нетфликса», а вторым — встать грудью на защиту великого человека.
Ученые и философы годами, столетиями придумывали теории искусства и все для того, чтобы в 2020 году мы рассуждали об эстетике в терминах добра, истины, красоты и вот этого чувства, когда пошла-пошла скрипочка, как будто ручеек зажурчал...а эти аккорды как будто рвут душу на части! Как будто давят на до-мажорную железу! Убей, убей изменницу! Злодея изведи!
Чему детей и людей учат в школе или музее? Их вовсе не обучают предмету «история искусства» или «теория искусства», их воспитывают. На физике и химии — учат, на литературе — врачуют душу. На математике — задачи, рассуждения, доказательства, на МХК — воспитание чувств на огненных примерах классики, то есть на сгустках абсолютного дистиллированного добра. Никто и никогда не рассказывает детям о книгах или скульптурах как об обычных артефактах социальной практики, пусть и довольно примечательной. Ну да, могут иногда указать на особенный оттенок или стилистическую особенность, но ключевое — непосредственное переживание встречи с прекрасным.
Чему детей и людей учат в школе или музее? Их вовсе не обучают предмету «история искусства» или «теория искусства», их воспитывают. На физике и химии — учат, на литературе — врачуют душу. На математике — задачи, рассуждения, доказательства, на МХК — воспитание чувств на огненных примерах классики, то есть на сгустках абсолютного дистиллированного добра. Никто и никогда не рассказывает детям о книгах или скульптурах как об обычных артефактах социальной практики, пусть и довольно примечательной. Ну да, могут иногда указать на особенный оттенок или стилистическую особенность, но ключевое — непосредственное переживание встречи с прекрасным.
У одних есть эстетическое чувство, у других нет. Один знакомый критик постоянно постит фотографии домов, картин и предметов интерьера, отмечая что одни из этих вещей красивы, а другие — безобразны.
красивый арбуз
красивый укроп
красивый суп
красивая ложка
красивая чашка
У меня с этим проблемы. На большинство вещей я не обращаю внимания, а те, что все-таки замечаю, как правило, вообще не могу оценить. Конечно, я пробовал с этим бороться. С 12 лет я каждый день приходил в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, ГМИИ имени Пушкина, музей «Гараж», МАММ, ММОМА и другие пространства, где можно встретиться с прекрасным. В поездках я первым делом отправлялся в Лувр, галерею Уффици, Музей Виктории и Альберта, Музей Гуггенхайма, галерею Тэйт модерн и другие знаменитые музеи.
красивый арбуз
красивый укроп
красивый суп
красивая ложка
красивая чашка
У меня с этим проблемы. На большинство вещей я не обращаю внимания, а те, что все-таки замечаю, как правило, вообще не могу оценить. Конечно, я пробовал с этим бороться. С 12 лет я каждый день приходил в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, ГМИИ имени Пушкина, музей «Гараж», МАММ, ММОМА и другие пространства, где можно встретиться с прекрасным. В поездках я первым делом отправлялся в Лувр, галерею Уффици, Музей Виктории и Альберта, Музей Гуггенхайма, галерею Тэйт модерн и другие знаменитые музеи.
Я подолгу стоял возле каждого произведения и напрягал каждый мускул, каждую жилку, чтобы получить эстетический опыт. «Ммм, какая живая луна, — цедил я сквозь зубы, — как будто лампочку поставили за холстом! Ну давай...давай, увидь красоту…». К сожалению, ничего не получалось. Тогда я пробовал наоборот, полностью расслабить тело, смешно встряхивал руками, двигал корпусом, приседал, ну как ментесса учила Чипа в известной пьесе Дмитрия Быкова. Но вместо путешествия по волнам эстетики я либо засыпал прямо стоя, либо погружался в сексуальные фантазии.
Сказать по правде, мне вообще нравятся только вздернутые носы. К остальным вещам мира я равнодушен. Зато я умный, и если знаю, что не разбираюсь, никогда не постесняюсь обратиться к эксперту и просто взять на вооружение его оценку. Как-то раз московские художники Ваня Бражкин и Зина Исупова решили подарить мне работу современного искусства. И вот перебирают, перебирают, вот «Складка» (изображение ягодиц, высказывание на тему известного концепта Делеза), вот какие-то домишки, геометрические фигуры, кляксы, коллажи, высказывания на тему левой культуры, высказывания на тему поп-культуры, высказывания на тему молодежной и интернет-культуры. И Зина еще быстро-быстро перелистывает: «Ну? Ну? Эта? Или Эта? Или Эта? Ну?!». Я говорю: «Нет, не надо, пожалуйста, прекрати, дай любую!», — «Ну хорошо! Тогда бери Христа Полицейского! Она графичная!».
И вот теперь я могу любому гостю объяснить, что работа хороша тем, что она графичная.
Сказать по правде, мне вообще нравятся только вздернутые носы. К остальным вещам мира я равнодушен. Зато я умный, и если знаю, что не разбираюсь, никогда не постесняюсь обратиться к эксперту и просто взять на вооружение его оценку. Как-то раз московские художники Ваня Бражкин и Зина Исупова решили подарить мне работу современного искусства. И вот перебирают, перебирают, вот «Складка» (изображение ягодиц, высказывание на тему известного концепта Делеза), вот какие-то домишки, геометрические фигуры, кляксы, коллажи, высказывания на тему левой культуры, высказывания на тему поп-культуры, высказывания на тему молодежной и интернет-культуры. И Зина еще быстро-быстро перелистывает: «Ну? Ну? Эта? Или Эта? Или Эта? Ну?!». Я говорю: «Нет, не надо, пожалуйста, прекрати, дай любую!», — «Ну хорошо! Тогда бери Христа Полицейского! Она графичная!».
И вот теперь я могу любому гостю объяснить, что работа хороша тем, что она графичная.
Но этому в школе не учат. Учат наоборот, что искусство — абсолютное благо, доступное в непосредственном переживании. В лучшем случае, учат различать «нотки дуба». Именно из этого представления исходят более-менее все российские культурные журналисты с туземными плясками вокруг величественных и непонятных, но социально одобряемых штуковин.
Этот крестьянский, телесно-растительный универсум засасывает в себя все — современное, искусство, критический дискурс, трансгрессивные практики, он всеяднее любого постмодернизма. Павленский? Гений современности, отразивший проблемы нашего общества. Егор Кошелев? Энергичная кисть. Арсений Жиляев? Мечтатель и визионер. Катрин Ненашева? Борец, воин, психоактивист. Постмодернизм постмодернизмом, а не надо путать свободу с вседозволенностью, все-таки нельзя отрицать роль личности в истории, да и не стоит забывать о банальном различении высокого и низкого. Я, честно говоря, и дня не могу прожить без академического концерта. Не понимаю, зачем нужны наркотики, когда на свете есть Малер, Шнитке, Владимир Мартынов...
Этот крестьянский, телесно-растительный универсум засасывает в себя все — современное, искусство, критический дискурс, трансгрессивные практики, он всеяднее любого постмодернизма. Павленский? Гений современности, отразивший проблемы нашего общества. Егор Кошелев? Энергичная кисть. Арсений Жиляев? Мечтатель и визионер. Катрин Ненашева? Борец, воин, психоактивист. Постмодернизм постмодернизмом, а не надо путать свободу с вседозволенностью, все-таки нельзя отрицать роль личности в истории, да и не стоит забывать о банальном различении высокого и низкого. Я, честно говоря, и дня не могу прожить без академического концерта. Не понимаю, зачем нужны наркотики, когда на свете есть Малер, Шнитке, Владимир Мартынов...
Подобный взгляд на вещи, когда искусство — это не социальная практика, а иерархия ценностей — не может временами не приводить к эксцессам. Например, если кто-нибудь решит что-то на самом деле прочитать. Недавно увидел в колонке у Анны Наринской, что ее сына-семиклассника шокировала глорификация еврейского погрома в «Тарасе Бульбе». Мне лично больше понравилось, как Тарас Бульба настигал полячек в костелах, насаживал их грудничков на копье и отправлял в огонь. Буквально нигде они от него не могли укрыться, где найдет, там и насадит. Такой уж человек, такое время, осуждать его трудно. Кстати, это, по-моему, какой-то устоявшийся культурный троп «семиклассник ужасается антисемитизму и жестокости протагониста русской классики», в какой-то книжке Крапивина тоже мальчик по этому поводу куксился.
Помню, спросил у учительницы: «А это вообще куда?», она говорит: «Ну, Гоголь хотел попробовать себя как историк». Но это же не книга по истории, а неотъемлемая часть русского культурного кода, проникнутая искренним пафосом дружбы, товарищества, любви к отечеству. То же самое везде, начиная с детских сказок, где в финале на праздничном пиру ведьму обязательно заживо варят в чане со смолой. Все это воспринимается как совершенно холицисиское благо, где выше всяких похвал и выразительные средства, и сюжет, и музыка, и танец, и стиль, и костюмы, и идеи, и герои все на подбор тоже совершенно идеально прекрасные. Ахилл и Геркулес нам не для того даны, чтобы всякие сморчки крючкотворством страдали. С героев юношам надо пример брать. Вот ты кто, Ипполит или Лукашин?
Подводя итог, для того чтобы ни у кого не тянулись руки уничтожить все видеокассеты с «Криминальным чтивом» или запретить «Гарри Поттера» трансфобки Роулинг достаточно не тащить искусство в нормативную сферу, а оставить там, где ему самое место — в области позитивных исследований и субъективных переживаний. Если книжки в школе будут изучать так же, как химию или биологию, никто не станет возмущаться добрым расизмом «Унесенных ветром».
Подводя итог, для того чтобы ни у кого не тянулись руки уничтожить все видеокассеты с «Криминальным чтивом» или запретить «Гарри Поттера» трансфобки Роулинг достаточно не тащить искусство в нормативную сферу, а оставить там, где ему самое место — в области позитивных исследований и субъективных переживаний. Если книжки в школе будут изучать так же, как химию или биологию, никто не станет возмущаться добрым расизмом «Унесенных ветром».
Смотрите также:
